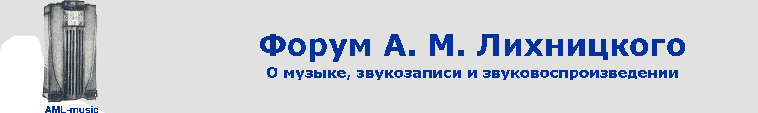
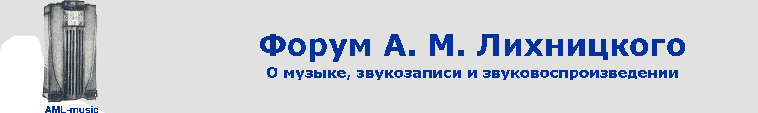 |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Сообщения за день | Поиск |
| О музыке Обсуждение музыкальных произведений, исполнений и качества записи дисков |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
1936 - 2013
Регистрация: 23.03.2008
Возраст: 88
Сообщений: 9,801
|
Заимствовано на Форуме Classical Forum
Истекшие сутки (25 января) были днем рождения Вильгельма Фуртвенглера. Чтобы почтить память гениального дирижера, появившегося на свет ровно 123 года назад, выкладываю его интереснейшее и до сих пор очень актуальное во всех отношениях интервью: ИЗ «БЕСЕД О МУЗЫКЕ» Собеседник Фуртвенглера поражается, насколько по-разному звучит Берлинский филармонический оркестр у разных дирижеров; под управлением каждого из них в оркестре развиваются иные свойства, иные достоинства, порой и иные недостатки. В бюловском парадоксе — нет плохих оркестров, есть только плохие дирижеры — заключено зерно истины. Ведь очевидно: даже лучший оркестр, стоящий на вершине мастерства, вначале представляет массу внутренне различных характеров. От индивидуального подхода к каждому музыканту зависит, насколько удастся привести в согласие, выстроить в единую линию их способности и внутренние возможности. А это первооснова воздействия. Скромный маленький оркестр, ставший в таком смысле ансамблем, может быть несравненно более впечатляющим, чем виртуознейший оркестр мира, полагающийся на свою профессиональную выучку. К сожалению, чаще встречается последнее. Можно прямо сказать: чем лучше оркестр, тем больше соблазна для его артистов (впрочем, чаще всего и для привыкшей к этому публики) удовлетворяться лишь традиционными исполнениями, исходя из совершенно ложной предпосылки, что рутина не столь уж мертвенна, если она связана с высокими техническими достижениями. Вероятно, поэтому дирижер последнею концерта и потребовал тик много репетиций для произведений, которые не ставили перед оркестром никаких новых задач. Количество репетиций, нужных дирижеру (при оркестре такого же уровня, как наш филармонический), зависит от характера его художественной индивидуальности, то есть, с одной стороны, от того, что возникает в его воображении (а это может быть очень различным у разных людей), и, с другой,— от его способности передать желаемое оркестровому аппарату. Объективных мерок здесь не существует. В особенности неверно широко распространенное мнение: чем больше репетиций, тем лучше. Это было бы слишком просто. Репетиция как таковая не есть нечто изолированное; репетиция и исполнение сочетаются друг с другом, и постигнуть их можно только во взаимосвязи. Некоторые дирижеры, несмотря на долгую практику, никогда не могли понять, для чего, собственно, существуют репетиции. Но есть и такие, которые умеют интересно и хорошо репетировать, а при исполнении разочаровывают. Конечно, репетиции надлежит выполнять свою функцию подготовки, то есть в исполнении не должно быть больше импровизации, чем абсолютно необходимо. Но и не меньше — это следует особенно подчеркнуть. Один известный дирижер будто бы сказал: надо репетировать до тех пор, пока не покажется, что дирижер уже не нужен. Это принципиальная ошибка, коренящаяся в ложном представлении не только о деталях большего или меньшего репетиционного процесса, но и о том, что такое музицирование вообще и чем оно должно быть. Стремление определить все до мельчайшей подробности в конечном итоге проистекает из боязни интерпретаторов, что им придется слишком полагаться на вдохновение момента. Избрав путь педантичной подготовки, они пытаются по мере возможности оттеснить вдохновение на задний план и в конце концов заменить его, сделать излишним. Они хотят с предельной точностью установить нее воздействия, словно бы рассчитать их за письменным столом, «заспиртовать». Это ложно потому, что не удовлетворяет требованиям живых произведений. Великие музыкальные шедевры в гораздо большей мере, чем принято считать, повинуются закону импровизации. Мало замечали это по двум причинам. Во-первых, потому, что упомянутые произведения записаны. Сначала интерпретатор знакомится с ними в нотной записи. Но путь к ним противоположен пути их создателя. Последний переживает истинный смысл того, что хочет сказать, до или во время записи: лежащая и ее основе импровизация является зерном творческого процесса. Для интерпретатора же произведение представляет прямую противоположность такой импровизации — застывшую в твердых формах и знаках запись, которую необходимо разгадать, чтобы проникнуть в самую музыку, и тогда уж исполнить ее. Вторая причина заключается а том, что мы привыкли видеть в музыкальных произведениях — и прежде всего в крепко сколоченных классических шедеврах —- незыблемые, предопределенные формы. Благодаря своей ясности формы эти кажутся далекими от всяких исканий, нащупываний, становлений, кажутся прямой противоположностью импровизации. Они представляются скорее простой и четкой схемой, которой, казалось бы, руководствовались классики. Мы поддаемся здесь ложному выводу, связанному с нашей ретроспективной точкой зрения. Конечно, эти формы (я имею в виду, например, фугу, сонатную форму) могут быть предначертанными схемами. Но сейчас нам ясно видно, у каких мастеров, с какого времени — в историческом аспекте —- такие формы начинают спускаться до уровня простого шаблона. Однако возникали они не как шаблон и сперва существовали не как определенное понятие — в том же смысле, как для нас, для нашего времени. Их открывали постепенно, шаг за шагом, медленно. Да и в самой их сущности коренилась необходимость быть и каждом отдельном случае находимыми как бы заново и индивидуально. Они установились, и понять их можно только исходя из процесса становления. Там, где они действительно жизненны, они всегда несут на себе следы этого процесса. В верном понимании они не что иное, как «затвердевшее», оформившееся становление, и как таковое, в самой своей сущности,— естественный конденсат импровизационного процесса. Они сами по себе — импровизация. Закон импровизации, как предпосылка всякой подлинной формы, исходящей из замысла, требует полного отождествления личности художника с произведением и его становлением. Едва только сила восприятии, всепроникающее чувство подлинной формы ослабевают, все тотчас же изменяется: исполнитель осознает произведение искусства уже не изнутри, а становится возле него — сперва ненадолго, потом это длится дольше и дольше. Он уже не сопереживает непосредственно, а во нее возрастающей мере контролирует, наблюдает, распоряжается. Силы, которые прежде были связаны неизбежным сопереживанием музыки, высвобождаются. Голова свободна для всего, что находится рядом с произведением, над ним, позади него. Один молодой коллега спросил меня как-то, что, собственно, делаю я во время дирижирования своей левой рукой. Обдумывай ответ, я сообразил, что, несмотря на более чем двадцатилетнюю дирижерскую практику, никогда еще не задавал себе этого вопроса. Только когда внимание и устремленность к произведению искусства не занимают больше всех сил, начинаешь подумывать о себе. Изучают «позу», специфический дирижерский прием — как раз то, для чего у настоящего художники, безусловно, не может остаться времени. Затем все большее внимание уделяют контролированию техники; техническая сторона незаметно превращается в самоцель. Это означает потерю ощущения, что душа должна быть формой и форма — душой: гак утрачивается ни более ни менее, как верное чувство непреложности и правдивости художественного процесса. Пожалуй, публике это неясно; наверно, есть еще какие-то симптомы подобною явления. Конечно, есть, и если бы наша публика в общем и целом не утерял  верности инстинкта, она по-иному реагировала бы па эти симптомы. Недостаток внутренней правдивости сказывается прежде всего в моменты непосредственного выражения душевного чувства. Например, по обращению с так называемым rubato (более свободной во времени пульсацией ритма, вызываемой душевными движениями) можно, как по барометру, определить, соответствует ли стоящие за ним импульсы истинному смыслу произведения, настоящие они или нет. Если rubato навязано извне, Преднамеренно, рассчитано, то оно сейчас же, как бы автоматически, становится преувеличенным. Это меньше сказывается в оркестровом исполнении: из-за множества инструментов применение rubato технически затруднено (хотя и в оркестре часто приходится слышать ложное rubato). У пианистов же подобное торможение отсутствует, и сейчас они безудержно, просто губительно злоупотребляют этим средством художественной выразительности. Здесь, где произведение у артиста «под пальцами», где он может делать с ним, что хочет, внутренняя фальшь (являющаяся, в сущности, причиной ложного rubato) проявится но всех своих разрушительных последствиях. Тем самым пианисты — имею в виду средний уровень— обрекают себя на неуспех, хотя к их услугам прекраснейшие произведения инструментальной литературы. Публика же закрывает глаза и, видимо, ничего не замечает. верности инстинкта, она по-иному реагировала бы па эти симптомы. Недостаток внутренней правдивости сказывается прежде всего в моменты непосредственного выражения душевного чувства. Например, по обращению с так называемым rubato (более свободной во времени пульсацией ритма, вызываемой душевными движениями) можно, как по барометру, определить, соответствует ли стоящие за ним импульсы истинному смыслу произведения, настоящие они или нет. Если rubato навязано извне, Преднамеренно, рассчитано, то оно сейчас же, как бы автоматически, становится преувеличенным. Это меньше сказывается в оркестровом исполнении: из-за множества инструментов применение rubato технически затруднено (хотя и в оркестре часто приходится слышать ложное rubato). У пианистов же подобное торможение отсутствует, и сейчас они безудержно, просто губительно злоупотребляют этим средством художественной выразительности. Здесь, где произведение у артиста «под пальцами», где он может делать с ним, что хочет, внутренняя фальшь (являющаяся, в сущности, причиной ложного rubato) проявится но всех своих разрушительных последствиях. Тем самым пианисты — имею в виду средний уровень— обрекают себя на неуспех, хотя к их услугам прекраснейшие произведения инструментальной литературы. Публика же закрывает глаза и, видимо, ничего не замечает.К rubato присоединяют еще и кое-что другое, стремясь извне возместить в исполнении то, что не хочет прийти изнутри. Мы уже упоминали о позе дирижера. Что в его движениях правдиво и необходимо и что фальшиво, лживо, искусственно именно «позирование» — недостаточное умение разобраться во всем этом наблюдается в первую очередь у публики больших городов. Похоже, что позу часто считают здесь обязательной, словно без нее искусство дирижера или пианиста лишилось бы необходимой приправы. Утрачено ощущение различия между движением, несущим выразительность, исходящим из самого произведения и обращенным. К оркестру, и пустым жестом, цель которого — воздействие на публику. То, что таким образом высвобождаются силы для контроля над технической стороной, может на первый взгляд показаться преимуществом.. Но это заблуждение. Потому что в тот момент, когда к технике обращаются ради техники, нарушается, как я уже говорил однажды, внутреннее единство целого. При настоящем исполнении техническое начало не может — хотя бы на мгновения — оторваться от «духовного». Даже и там. где оно само по себе «воздействует». Подобное воздействие (если оно уж является таковым) всегда ложное, ибо отвлекает от главного. Правда, это чувствует и знает только тот, кто познакомился с данным произведением раньше, в интерпретации, соответствующей его внутренней сущности. Потому столь опасны на практике исполнения великих, поныне живых, произведений прошлого, исходящие из технически-виртуозного начала: они; основательно портят вкус. Музицирование, постоянно нацеленное на виртуозность, эффект и внешнее разнообразие, неизбежно вызывает и развивает соответствующие свойства у публики. Тем самым музицирование вообще все больше и больше теряет свою весомость, ту степень внутренней необходимости, которой оно до сих пор еще обладало. Все технически-виртуозное — в высокой мере дело тренировки. Так и у интерпретатора выявляется, что метод слишком детализированной подготовки, предварительного установления даже мельчайших частностей не только вполне совместим с музицированием, в основном рассчитанным на виртуозное воздействие и внешнее разнообразие, но и прямо способствует ему. «Репетировать» можно всегда только частности; любое же виртуозное воздействие — это воздействие частностями, разнообразием, контрастом, лежащим вне «выросшего» целого. Только частности можно заготовить, рассчитать, «заспиртовать»; заключенное в самом себе целое всегда содержит нечто несоизмеримое. Тот, для кого это несоизмеримое является главным, конечной целью, никогда не переоценит репетиционную работу — при всем признании ее необходимости. Итак, во всем, вплоть до методов работы, сказывается, какие убеждения у данного исполнителя. Если репетиция должна быть только подготовкой, не имеющей ничем общею с главным, с конечной целью, может ли дирижер во время концерта передать своему оркестру это главное «несоизмеримое», как вы говорите? Об этом можно было бы написать толстые книги. Фактически та демаркационная линия, где духовно-несоизмеримое (сохраним такой термин) соприкасается с техническими необходимостями и достижениями нашего времени, то поприще, на котором они встречаются, для нынешних наших познаний все еще полностью остаются «terra incognita». Если вы спросите сегодня, в какой мере, каким образом и вообще в состоянии ли дирижер передать оркестру «главное», вам в лучшем случае ответят, что все дело в «личности», «внушении» или еще в чем-то подобном. Это, конечно, совсем не так, если с понятием личности соединять нечто мистически-неопределимое. Напротив, речь идет о совершенно реальных вещах: их можно назвать по имени, и таинственны они лишь постольку, поскольку целиком связаны с духовной стороной художественной деятельности. В наши дни иные впадают в ошибку, полагая, что певца, инструменталиста, дирижера можно обучать «технике» и развить ее без теснейшего, постоянного контакта с искусством, по отношению к которому эта техника имеет право быть лишь средством. Сейчас проблемы техники буквально, гипнотизируют; достигнуты определенные успехи и в понимании их основ, особенно с помощью современного научного подхода. Теперь и в игре на рояле, и в ходьбе на лыжах есть возможность достичь значительно лучших результатов в гораздо более короткий срок, чем всего несколько десятилетий тому назад. Только артисты от этого, не в пример лыжникам, стали не лучше, а хуже, поскольку речь идет о решающем, именно о непосредственной артистической способности выражения. Техника, выработанная как самоцель, с трудом поддается воздействию, но сама она оказывает влияние; стандартизованная техника создает, в порядке обратного действия, стандартизованное искусство. Мы совсем еще не осознали, нисколько этот процесс (ставший общеевропейским) уже захватил позиции и у нас. Для того чтобы его замечать, он протекает слишком медленна: мы слишком к нему привыкли. Его последствия — растущая опустошенность, омертвление искусства: становясь все более умелым, оно, ко всеобщему изумлению, в той же мере представляется все более излишним. В композиторском творчестве так же, как в исполнительском. Поймите меня правильно: я не восстаю против высокого уровня техники как таковой и не хотел бы лишиться ее достижений. То, против чего я восстаю и что наполняет меня тяжкой заботой, это громадный разрыв, зияющий между нашими познаниями о технической и духовной стороне искусства. Если там мы мним себя титанами и героями, то здесь мы сегодня, конечно, лишь дети. Недавно я побывал на исполнении «Страстей по Матфею». Если не говорить о нескольких хороших выступлениях солистов, этот одухотвореннейший шедевр мировой литературы оставил впечатление непревзойденной сухости и скуки. Тем больше я изумился, прочитав на следующий день в газетах, что наконец-то состоялось образцовое исполнение «Страстей». Использование старинных инструментов, маленький хор и т. д. — все, по современным научным данным, соответствует первым исполнениям баховских творений. Наконец-то ограниченное число хористов впервые позволит снова раскрыть полностью полифонию Баха, В действительности же все, что было «полифонией», в данном исполнении пошло прахом — этого рецензент, очевидно, не заметил. Можно подумать, что полифония зависит от количества исполнителен, а не от качества исполнения. Можно подумать, что с хором в 500 человек в подходящем помещении нельзя музицировать точь-в-точь так же «полифонично», как с хором в 50 человек, а с оркестром — так же, как со струнным квартетом! Конечно, играли точно и пели корректно, но мы не услышали ни одной подлинно образной фразы, ни одной одухотворенной мелодии, ни одной жизненно правдивой полифонической линии. Музыка Баха словно бы вовсе не появлялась. Однако именно это, по-видимому, и показалось нашему «исторически-вышколенному рецензенту наиболее отвечающим — «по современным научным данным» — баховскому духу. Тот, кто декламирует стихи или читает лекцию, старается сделать так, чтобы прежде всего понятен был смысл сказанного. Слушая внимательно, мы замечаем, что это достигается главным образом с помощью легких, часто еле заметных, еле поддающихся учету изменений интонации: то чуть замедлить, то убыстрить, то повысить, то понизить голос. И все-таки это (и только это!), особенно при сложных, не сразу схватываемых предложениях, обеспечивает слушательское восприятие. Существует лишь одна незыблемая предпосылка: нужно, чтобы сам чтец знал, что он говорит, то есть чтобы он понимал смысл того, что ему предстоит прочесть. Казалось бы, это само собой разумеется, но у музыкантов дело обстоит совсем не так. Только исходя из понимания исполнителя, сказанное может найти верное звучание; только исходя из чувства исполнителя, спетое, сыгранное может обрести тот правдивый облик, который приведет слушателей к пониманию исполненного. Эта верная окраска, этот правдивый облик совершенно отсутствовали в упомянутом исполнении; оно было не понято исполнителями и поэтому — вопреки всей его корректности — в высшей степени непонятно. Конечно, ничего здесь не было «романтизировано», не было «сентиментализировано» — будто естественная передача естественной фразы равнозначна романтизации, сентиментализации. то есть, говоря напрямик, фальсификации. Как раз то, что Баху здесь нечего, якобы совсем нечего было сказать страждущей душе, пи-видимому, и наполняло нашего рецензента глубочайшим удовлетворением, Разве он не знает, что боязнь сентиментальности — это всего лишь боязнь того, что кроется в собственной груди? Что тот, кто страшится сентиментальности, то есть половинчатой, лживой, преувеличенной чувствительности, подменяющей настоящее чувство, выдает тем самым, что ему приходится се бояться потому, что он лишен подлинного, естественного чувства или, по меньшей мере, обладает им не в достаточной степени? Человеку, владеющему всей полнотой душевных сил, чужда сентиментальность. Поэтому он и не боится ее, и не уклоняется от моментов искреннего потрясения. Никто меня не убедит, что баховская община пела хорал «Если мне придется расстаться» с теми же чувствами и, следовательно, с той же выразительностью, как, скажем, хорал «Что бог свершит, то хорошо». Почему же мы должны петь его так? Из страха перед нашим собственным чувством? Все вместе взятое — комедия; если посмотреть на нее с некоторого расстояния (а это мы и должны здесь сделать), то ничего смешнее не выдумаешь. Боязнь сентиментальности, боязнь самих себя — ведущая идея музицирования у целого поколения! Словно музицирование не должно быть как раз самоутверждением, высшей мерой согласия с самим собой, если оно вообще имеет какой-нибудь смысл! Но это лишь одна сторона вопроса. Именно потому, что в неприятно требовательном обществе классической музыки словно зашнуровываются в корсет, в современных произведениях, где у исполнителей больше уверенности, они дают себе волю. Особенно те, кто только что музицировал с. такой ледяной холодностью и «объективностью», вдруг обнаруживают нескончаемый запас ложного чувства, деланных, лживых, нарочитых rubato и т. д., когда исполняют произведения так называемой «высокой романтики». Теперь мы, разумеется, понимаем, почему они так избегают романтики: у них есть для этого полное основание. Они отказываются от проявлений индивидуальности, потому что боятся необузданного «индивидуума» в самих себе... (Приводится по: Фуртвенглер В. Из литературного наследия // Исполнительское искусство зарубежных стран. Выпуск 2. М.: Музыка, 1966. С. 155 - 161.) Также на 19-ой странице потока "Авангард 20-го века" мною выложены письмо Фуртвенглера к Линтону и его доклад "Музыкант и его публика": http://www.classicalforum.ru/index.php?topic=371.270 |
|
|

|